
Марин Бодаков Сильвия Чолева: восстановление литературной памяти
Болгария. Езда в незнаемое (предуведомление главного редактора)
Итак, сегодня на нашем сайте второй выпуск рубрики, рассказывающей о не переведённой на русский язык зарубежной литературе. Я полагал, что знакомство с новыми книгами, ещё неизвестными русскоязычным читателям, позволит не только быть в курсе книжных новинок, но и через предложенную интерпретацию текстов поможет лучше узнать культуру других стран. Первой в рубрике «Зарубежная литература» была публикация рецензии Хелины Хуотари и Арьи Розенхольм на роман Анни Кютемяки «Маргарита» в авторизированном переводе с финского Ирины Савкиной.
Сегодня вы имеете возможность начать знакомиться с хроникой современной болгарской литературы, которую будет раз в месяц представлять поэт и журналист Марин Бодаков. Перевод его текста на русский язык был сделан членом редколлегии журнала литературоведом Йорданом Люцкановым и отредактирован Ниной Барковской.
Предложенный вариант перевода вызвал у меня ряд вопросов, с которыми я поделился с Йорданом. Когда пришёл его ответ, я понял, что новая рубрика может быть полезна в формировании навыков межкультурной коммуникации не только абстрактным читателям, но и мне.
Пытаясь переформатировать предложенный перевод, я предложил Йордану заменить некоторые фигуры речи, которые, на мой взгляд, выглядели чужеродно для русского языка.
Замечу, что я не знаю болгарского. Более того, когда я единственный раз в жизни был в 2013 году в Болгарии, язык показался мне гораздо более далёким от русского, чем польский, который я относительно хорошо понимаю. Найденная мной аннотация на предлагаемую читателям сайта книгу содержала следующий текст:
«Границите тъкмо бяха отворени, хората емигрираха, аз останах. За първи път излизах извън затвора на НРБ, пътувах с автобус. Пътуване към света и към себе си. Открих Прага, себе си продължавам да търся. Понякога Прага е тук, понякога е там, същото важи и за София».
К странностям перевода я, в частности, отнёс то, что отправляющаяся из Софии в Прагу после падения «железного занавеса» женщина «всматривается в себя. Всматривается в цивилизованную Европу».
В 1987 году я открыл для себя Европу именно в Праге. Когда наша туристическая группа добралась через Брно до Братиславы, наш словацкий экскурсовод с вполне русским именем Татьяна сказала, что собирается в выходные съездить в Будапешт. Помятуя о трёх посещениях райкома комсомола для одобрения приобретения турпутёвки, я спросил, что нужно для того, чтобы отправиться в соседнюю Венгерскую Народную Республику. Татьяна непонимающе посмотрела на меня, и, с очевидностью, не осознав сути вопроса, ответила — «Купить билет».
Поговорка «Курица — не птица, Болгария — не заграница», вероятно, имела дополнительный и неведомый для граждан СССР смысл границ культур в рамках Восточного блока.
Я полагал, что слово «всматривается» не очень сочетается с имеющимися объектами, и предложил заменить на «самопознание» и «знакомство». Йордан ответил, что «она просто всматривается. Самопознание, знакомство с новой цивилизацией — это уже конкретизации (пусть и совсем достоверные), с которыми автор не желает ангажироваться».
Попытка заменить слово «женщина» на «героиня» так же встретило непонимание Йордана. Он написал, что «все-таки автор обзора на данном этапе все еще не хочет уточнять, героиня ли это или женщина, выступающая в какой-то иной функции в отношении текста обозреваемой книги. Поэтому я сохранил бы “женщину”».
В итоге я оставил значительную часть спорных на мой взгляд оборотов речи, чтобы болгарский дискурс дошёл до вас в варианте, который носители языка считают наиболее адекватным для болгарско-русской коммуникации.
Михаил Тимофеев
Марин Бодаков Сильвия Чолева: восстановление литературной памяти
Поздней осенью 2020 года софийское «Издательство поэзии ДА» републиковало книгу «Отиване Връщане» (Отъезд Приезд / Уход Приход) поэтессы, журналистки и одного из трех пайщиков издательства Сильвии Чолевой (1959 г.р.). В этой книге женщина после падения Берлинской стены в разные времена года совершает поездки в Прагу. Она всматривается в себя. Всматривается в цивилизованную Европу. Первое издание книги — 1997 года — года, в котором, после массовых протестов демократической оппозиции и с трудом достигнутого национального консенсуса, Болгария окончательно приняла курс на вступление в Европейский союз и НАТО.
Я полагаю, что «Отиване Връщане» является архитекстом современной болгарской литературы — или, по крайней мере, ее элитарного полюса. Почему?
Лирическое Я этой книги едет за границу — в первый раз после 45 лет тоталитарного режима в стране умная и уставшая надеяться женщина имеет шанс покинуть свою родину и открывать новые места. Чолева едет на запад от Софии. И добирается до сердца Средней Европы — столицы Чехии, Праги. Запад, но не совсем.
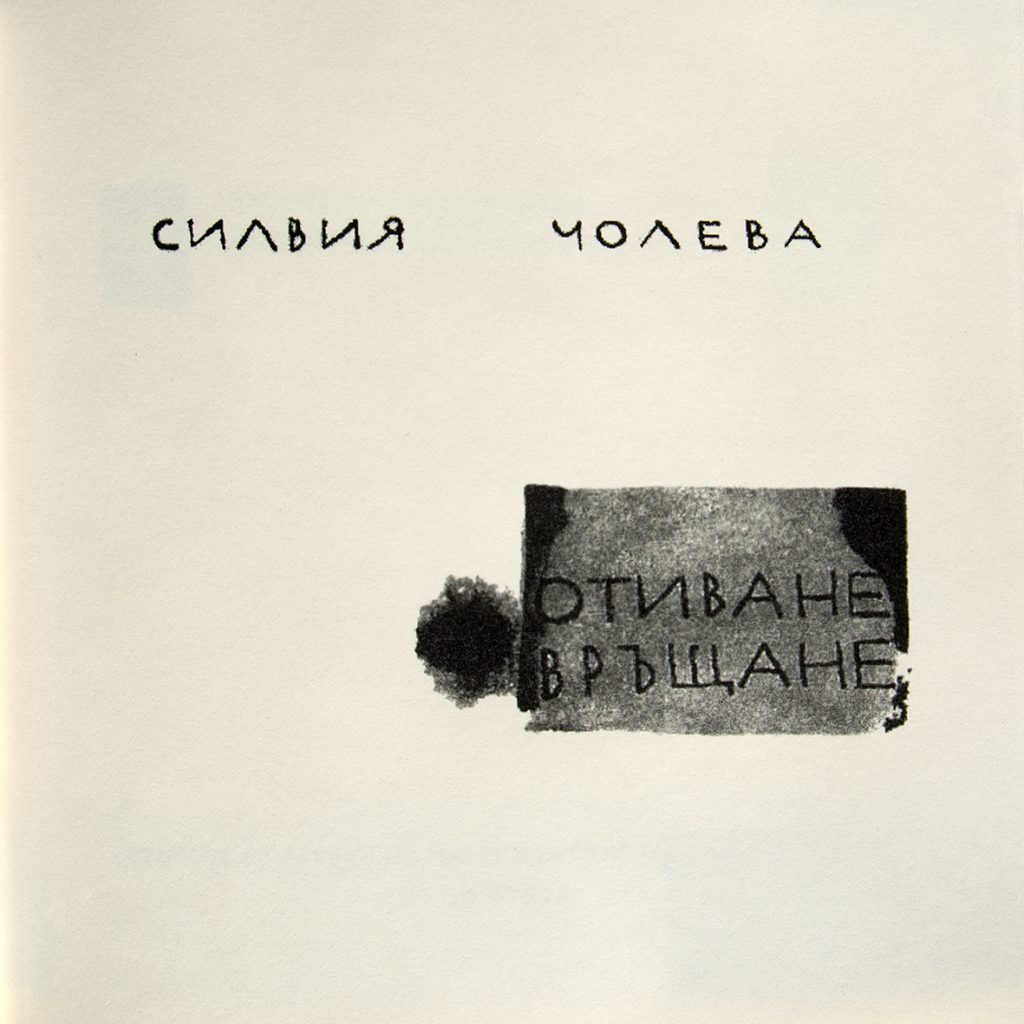
Тем более, что это лишь буквальная сторона путешествия. Метафорическое путешествие — иное: Сильвия Чолева любит лаконизм, энигматичность и свободу поэтического слова Дальнего Востока, и поэтому она добирается до Праги начала 90-х годов, направляясь от центра Софии через древние Китай и Японию…
Ее (само)восприятие довольно сложное: с одной стороны, восхищение европейским повседневным стилем существования и органическое пребывание в культуре, но, с другой стороны, ощущение утерянной молодости, потраченных лет жизни в Болгарии, которая сама превратилась в европейскую провинцию.
Эта сложность сказывается на составе книги: стихотворения, фрагменты, случайные записки… На страницах даже нет колонцифр. Ничто не подлежит окончательному узнаванию и уверенному размещению на жанровых полках литературы.
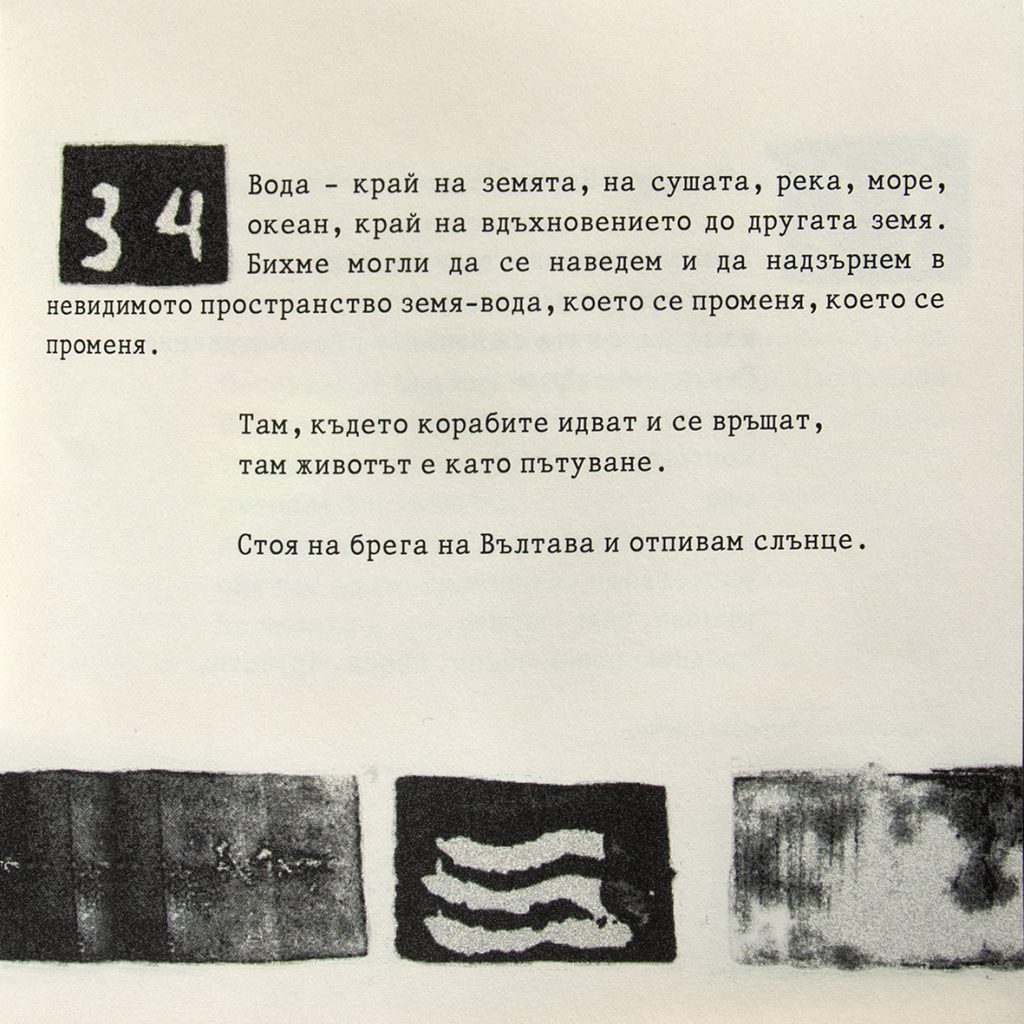
Это травелог? Это флуидное женское письмо? Манера письма женщины, которая начинает ощущать, что уже стареет, что не успела реализировать себя, что ее смерть таится поблизости? А может быть, этой книгой Сильвия Чолева вступает в диалог с «первой дамой» болгарской женской литературы Элисаветой Багряной, которая также была по своей природе путешественницей и освободительницей женского духа?
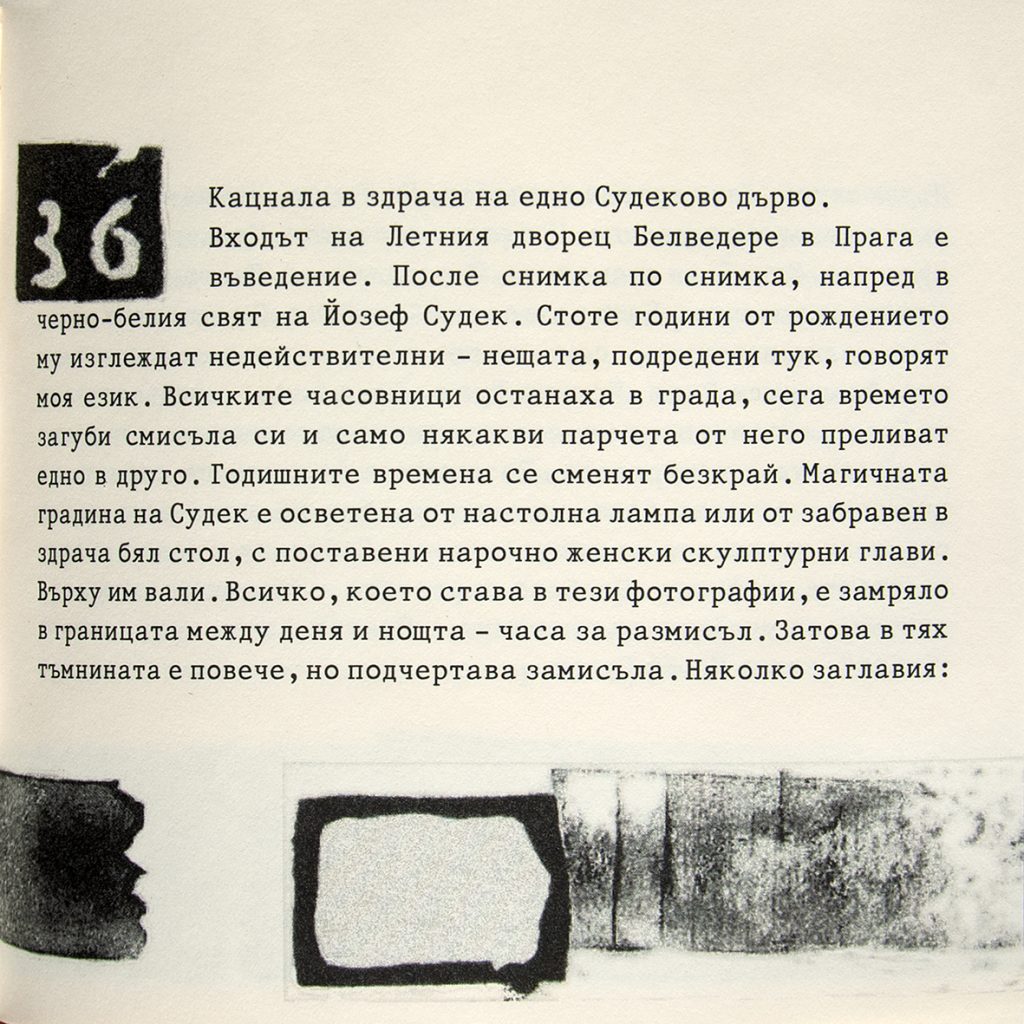
В «Отиване Връщане» разные аспекты существования — от сортиров до изысканного чая — полностью нерасчленимы. Они сосуществуют в отчаянной гармонии. Тем более, что в книге нет и следа от пародирования патетики эпохи национального возрождения, типичного для постмодернизма первого десятилетия после падения диктатуры Тодора Живкова. Сильвия Чолева не озабочена поиском стереотипов, подходящих для предъявления иностранному читателю — равно как и вопросом о соответствии ее манеры письма его представлениям об относительно молодой болгарской литературе…
И еще: книга — многогранный артефакт: она оформлена художницей и сценографом Даниелой Олег Ляховой. Сейчас вспоминаю, что на семинаре для начинающих книгоиздателей нам объясняли: чтобы книга была совсем непродаваемой, ей следует быть, во-первых, коричневой, а во-вторых, квадратной. Сильвия Чолева добавила еще третье: она выпустила не только квадратную книгу малого формата, но и отказалась указать на обложке свое имя и заглавие «Отиване Връщане».
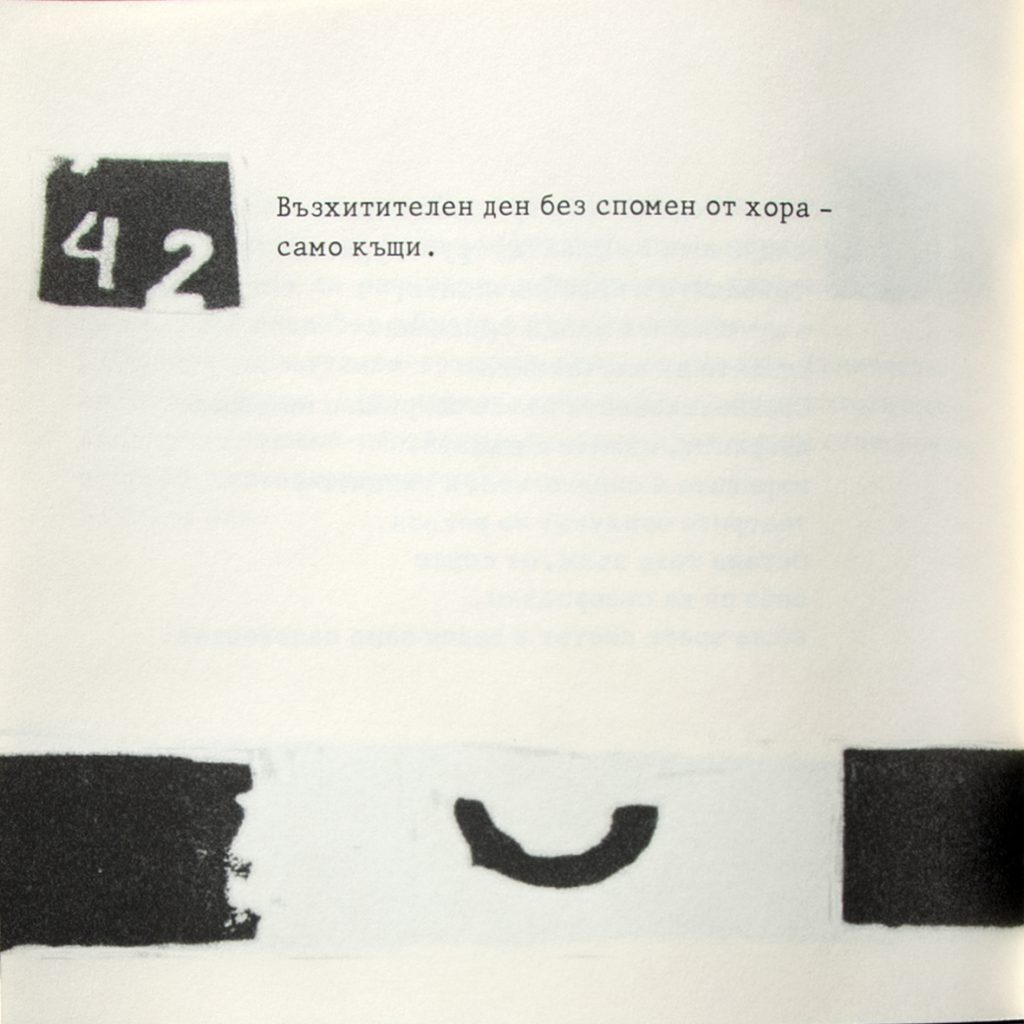
И как раз эта книга Сильвии Чолевой, по-моему, превратилась в неосознаваемый мифопоэтический текст современной болгарской литературы. Как в игре микадо, критики из нее вытягивали темы, мотивы и образы… Многие авторы разобрали содержание книги «Отиване Връщане» — выбирали какой-то один элемент и преувеличивали его… А и в ней самой не было никакой теоретической претензии. Таким образом, гармоническое содержание книги погрузилось в тень своих имитаторов, которые, в отличие от Сильвии Чолевой, вычисляли вкусы читателей, смену поколений и сокращение читательских горизонтов, мощное влияние писательской саморекламы в социальных сетях, девальвацию призов, коммерциализацию литературы, отмирание литературной критики…
Сама Сильвия Чолева продолжает работать журналистом в культурной программе Национального радио, а многие из интервьюированных ею авторов, вероятно, останутся в литературной памяти тем, что их интервьюировала именно Сильвия Чолева.

Такие книги, как «Отиване Връщане», сегодня невозможны — неслучайно ее переиздание предпринимается издательством самой Сильвии Чолевой, которая вместе со своими сотрудниками выпускает только поэзию и одну поэзию, которая отказывает предлагать себя в больших сетях книжных магазинов. И когда оно выпускает Адама Загаевского, Ингера Кристенсена, Збигнева Херберта, Линду Грегерсон, то книги издательства можно найти только в независимых маленьких книжных магазинах нескольких болгарских городов.
В 2020 году «Издательство поэзии ДА» выпустило, например, собрание стихотворений поэтессы Софии Бранц, которая предпочла покинуть видимый спектр современной болгарской литературы, из чувства отвращения к играм нарциссизма и самообольщения… Но книга Бранц является событием только для тех, кто прочитал вагон книг. Потому что сегодня фейсбук-аудитория ценит прежде всего ловких имитаторов, за текстами которых не в состоянии узнать имитируемого знакового автора. Нынешняя мода уничтожила глубину литературной памяти. Поэтому вокруг второго издания «Отиване Връщане» пока неловкое молчание. И это лишь свидетельство того, как память переписывает факты.
Конечно, я вообще не претендую на абсолютность своих утверждений. Это крайне личное прочтение особенного во всех отношениях литературного года, тем более, что я сам близкий друг Сильвии Чолевой. Автор дорога мне, но истина мне дороже.
Поэтому я предпочел в первом своем обзоре отдать должное книге, которая в силу обстоятельств является, по-моему, потерянным континентом в современной болгарской литературе, следы которого, однако, обнаруживаются повсюду.
Я сфокусировался на поэзии, потому что болгарская проза видна как иностранным издателям, так и местным СМИ. Может быть потому, что проза создает более сильную иллюзию «ознакомления» с культурой, мало знакомой как иностранному, в самом деле западному, читателю, так и — все больше — самой себе. Как разместить на литературной карте поэзию, которая по своей сущности «уходит и приходит», ее переносный смысл и переносимую им неуверенность?
В заключение хочу подчеркнуть, что я ориентировался в своем кратком обзоре на традицию писать о болгарской литературе для внешнего читателя, читателя за границей, намного свободнее, чем для читателя в Софии, Пловдиве или Бургасе. И указать на книгу, которая соблюдает напутствие Эпикура: «Живи незаметно».
Марин Бодаков (1971 г.р.) — преподаватель Факультета журналистики и массовой коммуникации Софийского университета им. Св. Климента Охридского. Автор восьми книг поэзии, последняя из которых — «Мечка страх» (Была не; 2019)[1], а также исследований, посвященных литературной журналистике.
[1] Первая половина фразеологизма со значением «Была не была»; дословно — «Медведю страшно», фразеологизм дословно — «Медведю страшно, а мне нет».




