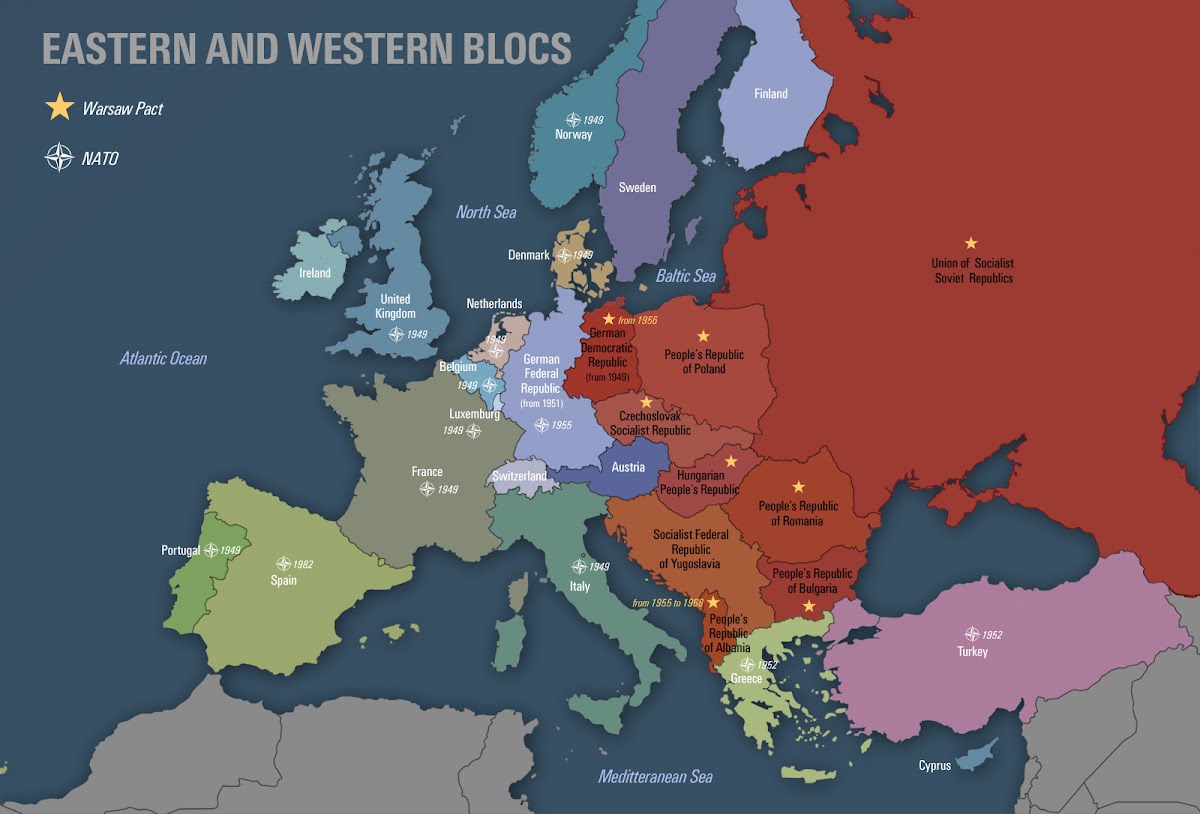Камелия Спасова Прозрения и озарения в непроглядном
Немыслимое
„Исход/Выход видов“ (Изходът на видовете) Николы Маринова[1] можно определить как поэтико-философскую прозу. Книга состоит из тридцати девяти коротких рассказов, стилистически лаконичных, эстетически причудливых, сюжетно парадоксальных. Общее в историях – независимо от того, через что эти истории проходят (запутанные лабиринты, утерянные рукописи, бури, пещеры и пыльные чердаки) – это то, что выход всегда есть. Этот выход – прозрение (эпифания) или короткое замыкание (апофения), которые освещают непроницаемое. Эпифании и апофении неожиданно переворачивают ставки с ног на голову.

Никола Маринов родился в 1988 году, окончил философское отделение Философского факультета Софийского университета Св. Климента Охридского. „Исход/Выход видов“ (2021) его вторая книга, после сборника стихов „Тигр захотел, человек обещал“ (Тигърът поиска, човекът обеща; 2019), но обе, прозаическая и поэтическая книги, следуют общей линии. Общее – встречи и разговоры с одиночными существами: неповторимыми, странными видами; на грани между человеческим и животным/звериным; иногда гибридные, иногда вовлеченные в подновляющейся метаморфозе, эти организмы единственные в своем роде и вопрошают себя о своих онтологических основаниях и своем месте в мире.

В „Исходе/Выходе видов“ пастухи и исчадия, люди и тигры, но также летучие мыши, свиньи, голуби, бабочки и множество привидений находят общий язык. Это язык усомнения, сопровождаемый жестами принятия. Принятия не просто различного и неслыханнаго, но и того, что вещи могут складываться и по-иному, существовать и иным образом. Проза Маринова подсказывает, что перемена является вопросом зрительного угла, поворота в мышлении, а иногда просто одного поразительного предложения. Отдельные рассказы нарушают собственные границы, перекрывают друг друга, перетекают друг в друга, вступают друг с другом в разговор и друг друга высвечивают. Их логику можно связать с логикой дзен коанов, христианских притч, парабол и иносказаний, вообще с тем типом кратких историй, которые ищут познания на грани рационального, поскольку хотят рассказать о непознаваемом. Поэтому я прочитываю эту книгу как философию немыслимого.
На грани: знаки (само)вопрошания[2], чуд(ов)ища и чудаки
В книге есть один такой персонаж, который проходит сквозь нее всю и встречается в большинстве ее историй, его легко перевести на любые языки: это ? – вопросительный знак. Его нам презентуют уже на задней обложке: „Из лабиринта кратких историй, размышлений, откровений в этой книге нас водит особый, препинательный герой: ?. Да, именно препинательный, так как он обозначен не именем, а вопросительным знаком, но и потому, что оказывается „препоной“ нашему чтению, озадачивает внутренний голос, сгибает его в немое, вперяющееся вопрошание. Про себя я назвала его Пан Дубито, т.е. Господин Сомнение (в силу некоей аналогии с Паном Когито Збигнева Херберта). Называйте его как Вам заблагорассудится, но предоставьте себя этому блуждающему вопросу, вечно распятому между веревкой и голубем, небом и собором, чтоб Вас водил.“[3]

Читатель остается ошарашенным, натыкаясь на предложения вроде „? спросил“; „? призадумался“; „? ошеломлен“. Читатель спрашивает себя кто именно в истории призадумался; кто озадачен; кто он/она/оно такой/такая/такое; человек или животное… Этот персонаж обозначает и основную тягу рассказов – ставить все под вопросом, в том числе колебать границу между ‘внутри’ и ‘вне’; динамикой и парализом; концом и началом; смертью и бессмертием; сноподобной реальностью и пробуждением. Может, герой ? это картезианский субъект, который существует, стоя на своем и продолжая сомневаться? Или это та более объемлющая удивленность бытием, которая вдруг схватывает непонятное единство, расшифровывает руны тайных языков – приходит к озарению по ту сторону любых порядка и категоризации? Одно не вызывает сомнений: в „Исходе/Выходе видов“ ведущий персонаж – знак, а не собственное имя. У нас есть возможность дать ему имя – называть Чудёнком (Чудёнкой?..), Вопрошанком (Вопрошанкой?..), Пан Дубито, – наращивать ему идентичность, пол и лицо, но это дописывание производится читательским воображением, поскольку рассказчик оставляет его энигмой. ? может гибнуть в одной истории и появляться в другой, поскольку он философская фигура, а не обычный герой. Он обладает двумя силами: с одной стороны, раздваивать сомнением все, до чего досягается его взгляд, а с другой – эпифанным прыжком единять. Или, говоря словами автора Николы Маринова: „У одной части ? не было объяснения этого феномена, а у другой не было необходимости в таковом.“ („Омнихил“, стр. 50). Герой – дублер рассказчика, но не сливается, а четко отмежевывается от его голоса, поскольку, когда ? уже нет, остается „бестелесный голос неприсутствующего рассказчика, описавшего все к данному моменту“. Одна сила ? это философское сомнение, а другая – поэтическое вдохновение.
Благодарение персонажу ? подчеркивается известная смутность, характерная для всех историй – будь они сказочно-фантастическими или миражно-сноподобными. Возьмем, например, рассказ „Исчадие“ (Изчадието), в котором некая аморфная смесь волка и человека, названная именем вурдалакоподобное, ворует овцы одного пастуха, вконец решившегося добраться до лежбища чудовища и понять его тайну. Развязка приходит вместе с крутым поворотом и парадоксом – „так что по крайней мере для меня ты не человек, одержимый зверем, а зверь, одержимый человеком“ (стр. 23). Но и после конца рассказа вопрос о том, являются ли пастух и исчадие двумя лицами из одной сказочной реальности, или речь идет о внутреннем расщеплении в рамках сна, фантазии, – остается открытым. Во втором случае пастух и исчадие – внутренние голоса раздвоенного сознания. Эта нерешенность вокруг онтологического статуса необычайных форм жизни проходит через всю книгу. Двумя лицами или двумя внутренними голосами являются: скульптор и бессмертный; старик и привидение; герой и мертвец; человек и тигр; библиотекарь и искатель книг. Книга поддерживает постоянной тягу сомнения, поскольку в рассказах часто происходит крутой поворот как раз на грани между субъектом и объектом, привидностью и неразличимостью, между взглядом и зеркальным отражением: „Всмотрелся в цепь отражений и не смог разгадать какое из отражений принадлежало ему и какое – привидению“ („Старик и привидение“ (Старецът и привидението), стр. 34). Подобная фантазматика теней, масок, зеркал, отражений, раздвоений вносит крайнюю неустойчивость в онтологический порядок, но тем самым именно она делает возможным внезапный прорыв чуда – невозможное оказывается вполне возможным. Оно приходит с легкостью озарения и обретения зрения, с „внезапно обретенным воспоминанием“, с припоминанием будущего, с одним каким-нибудь парадоксальным выражением.

„Исход/Выход видов“ проводит логику причудливого, проходя как раз через эти промежуточные зоны на грани между сказочным-и-фантастическим и странным-и-фантастическим в терминологии Цветана Тодорова. Это зоны неопределенности, и как раз в них пребывают странные виды, чудовища и чудаки, которым пунктуальные определения не по мере. Их притягивает непредсказуемость.
Лабиринты, парадоксы и повороты
Проза Николы Маринова гелиотропична, чувствительна к свету. Места в книге порой включают гомогенные топосы неразличимости, пространства, объятые мраком, объятые всеобъемлющей мглою, пустошь, бесконечные льды, непроходимую пустыню, лабиринты. Это все места непроглядного и неразличимого, в которых материя еще не провела свои очертания, некие пространства беспредельного, без начала и без конца. В них можно проваливаться как Алиса через кроличью нору или через зеркало в иной мир – это часто происходит тогда, когда герой в пустыне; он внезапно оказывается в кабинете перед нарисованной пустыней. И как раз перед вертигом этих бездн персонажи останавливаются в удивлении перед одним жестом, непонятным и неразгадаемым, чтоб прийти через озадаченность к озарению, найти выход и угадать, что жест указывает на свет, на сияние. Таким образом мы в состоянии понять и рамку книги: первый рассказ это „Непонятное единство“ (Непонятното единство), в нем ? всплывает из пространства, окутанное в мраке, чтоб добраться до библиотеки и набрести на книгу, которую ищет, но в ней слова уже исчезли; а последний рассказ это „Круговорот света“ (Кръговратът на светлина). Таким образом мы можем прочесть непонятное единство как круговорот света, где формы имеют способность смешиваться и преображаться, но их конечность и смертность – только часть этого процесса фигурации и трансфигурации, очерчивания, распада и слияния с немыслимым. В одноименном со всей книгой рассказе „Исход/Выход видов“ взращенный птицами похож на птицу, но такою не является, так как не может лететь. Сова шлет его за советом к Ленивцу, который способствует развитию видов – так, например, он поспособствовал мышам полететь, чем с течением времени возникли летучие мыши (отсюда ключевая роль этого вида – ленивца – на протяжении всей книги). Ленивец проводит идею, что наш герой должен продолжить пытаться лететь и, если он сохранит идею и передаст ее „живой следующим поколениям, после неопределенного числа поколений идея обернется реальностью“ (стр. 83). Путем одного воспоминания из будущего наш герой приходит к мысли, что именно так и предстояло случиться – это дело с припоминанием будущего важно как способ наращения временных парадоксов в книге, наряду с пространственными и логическими. Мне чудятся голоса Платона и Новалиса, Кафки и Борхеса, Лао Цзы и Хераклита, но быть может это только эффект моей собственной воли к олицетворению примерещившегося за энигмами, перед которыми ставит нас книга.

Причудливый мир рассказов Николы Маринова провожает нас через иллюзорность собственных границ: невозможное – лишь установка, оно с легкостью тает в привидно невозможном. Странные герои в „Исход/Выход видов“: люди и дива, собиратели ветошей и тигры, бабочки и исчадия, библиотекари и голуби, общаются на грани парадоксального, чтоб всегда дойти до (своеобразного) преоткрытия мира. Персонаж бросает свое изумление как тень на все – вот так он вспоминает будущее и доходит до правды.
Перевод с болгарского Йордана Люцканова
Камелия Спасова занимает должность доцента античной и западноевропейской литературы в Софийском Университете „Св. Климент Охридский“. В период 2016-2018 гг. она была лектором болгарского языка и культуры в Кёльнском университете. Доктор (PhD) по теории литературы, за книгу „Событие и пример у Платона и Аристотеля“ („Събитие и пример у Платон и Аристотел“, 2012). С 2009 г. – соредактор и ответственный за выпуск ряда номеров „Литературной газеты“ („Литературен вестник“), София. Ее габилитационный труд – „Модерный мимесис. Саморефлексия в литературе“ („Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата“) (2021).
Ее первый сборник стихов „(Кладбищенский) участок N 17“ („Парцел N 17“, 2007; https://dualis.files.wordpress.com/2009/11/rukopis_p17.pdf) выходит, получив первый приз на национальном молодежном конкурсе поэзии „Веселин Ханчев“. У Виллы „Вальдберта“ на Штарнбергском озере она находит достаточо пустой земли, чтоб закончить „Кеносис“ (2016) – книгу о пустоте. Ее стихотворения переводились на английский, немецкий, русский, греческий, турецкий, румынский, сербский, датский, хорватский и итальянский языки.
В 2015 г. она создает π – открытую группу совместных действий в области поэзии и философии, совместно с ВБВ, Огняном Касабовым, Марией Калиновой, Юнузом М. Юнузом, Димитром Божковым (http://314etc.com). Совместно с π пишет „Хаос (редакторский манифест)“ („Хаос (редакторски манифест)“).

[1] Никола Маринов. Изход на видовете. Пловдив: Жанет 45, 2021, 104 с.
[2] Этим словосочетанием перевожу слово того же корня, что и последующие две („чуденка“) (прим. перев.).
[3] Этот портрет персонажа – дело болгарского критика и исследовательницы Биляны Курташевой.